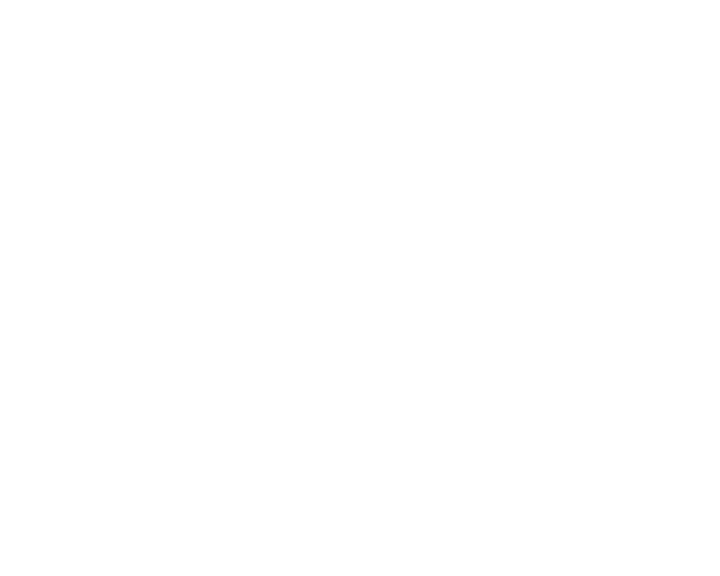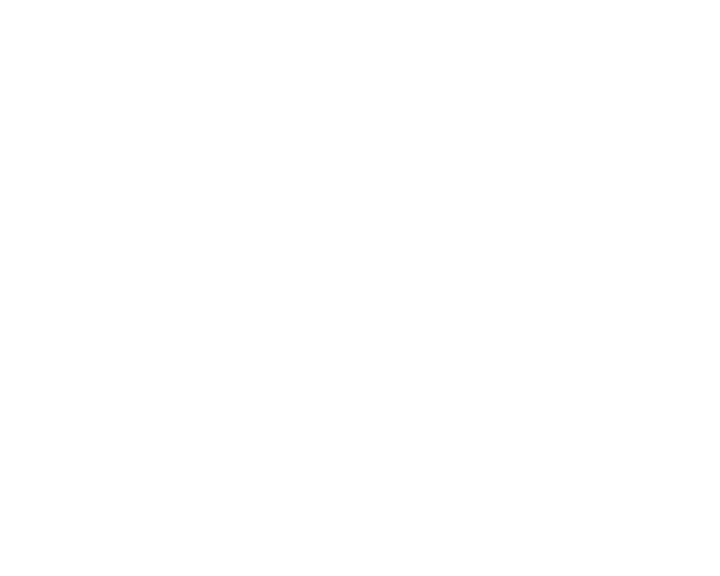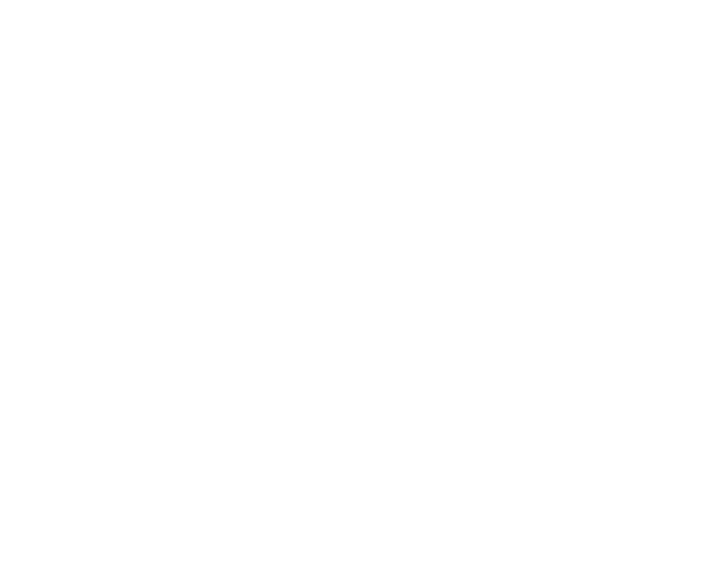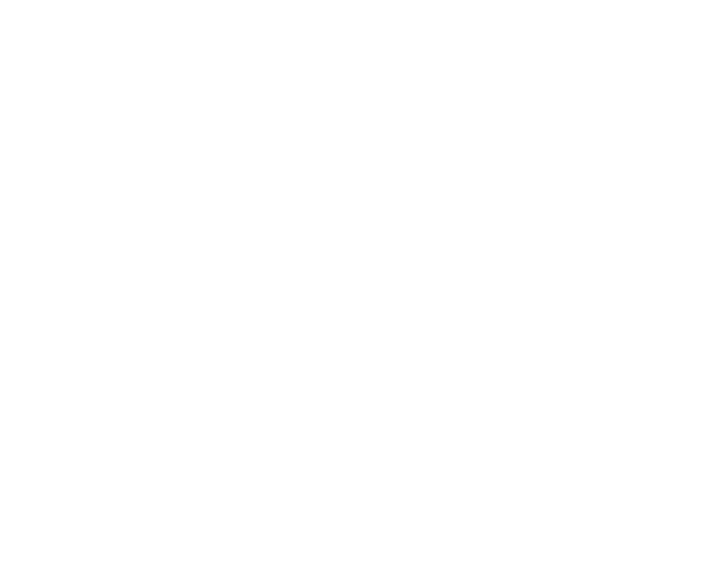Наивная эпоха (дневники современника)
Фильм Галины Калининой. Специальный диплом жюри на YI Московском Международном кинофестивале "Профессия журналист"
Studio9marta. Кадр из фильма : Валентин Каркавцев
Экранизация личных дневников обозревателя «Комсомольской правды» Валентина Каркавцева. Валентин погиб в 1997-ом году при невыясненных обстоятельствах. Закадровый текст фильма полностью состоит из фрагментов дневников журналиста, использованы снятые им слайды, многочисленные рисунки из его блокнотов, черновиков; уникальная видеосъемка, сделанная им в Чечне в 1994-95-ом годах.
Наивная эпоха (дневники современника)
Автор сценария и режиссер Галина Калинина
Монтаж Герман Ван-Ин, Марина Санарова, Владимир Тютиков
Продюсер Галина Калинина
23 мин.,2013 год
Эфир: телеканал "Комсомольская правда"
Автор сценария и режиссер Галина Калинина
Монтаж Герман Ван-Ин, Марина Санарова, Владимир Тютиков
Продюсер Галина Калинина
23 мин.,2013 год
Эфир: телеканал "Комсомольская правда"
пресса
"Фильм позволяет ощутить дыхание Души погибшего журналиста, прикоснуться к тому, чем он жил. Через его личные дневники проступает дыхание эпохи – эпохи начала девяностых, которую Валентин в одной из своих статей назвал «наивной»."
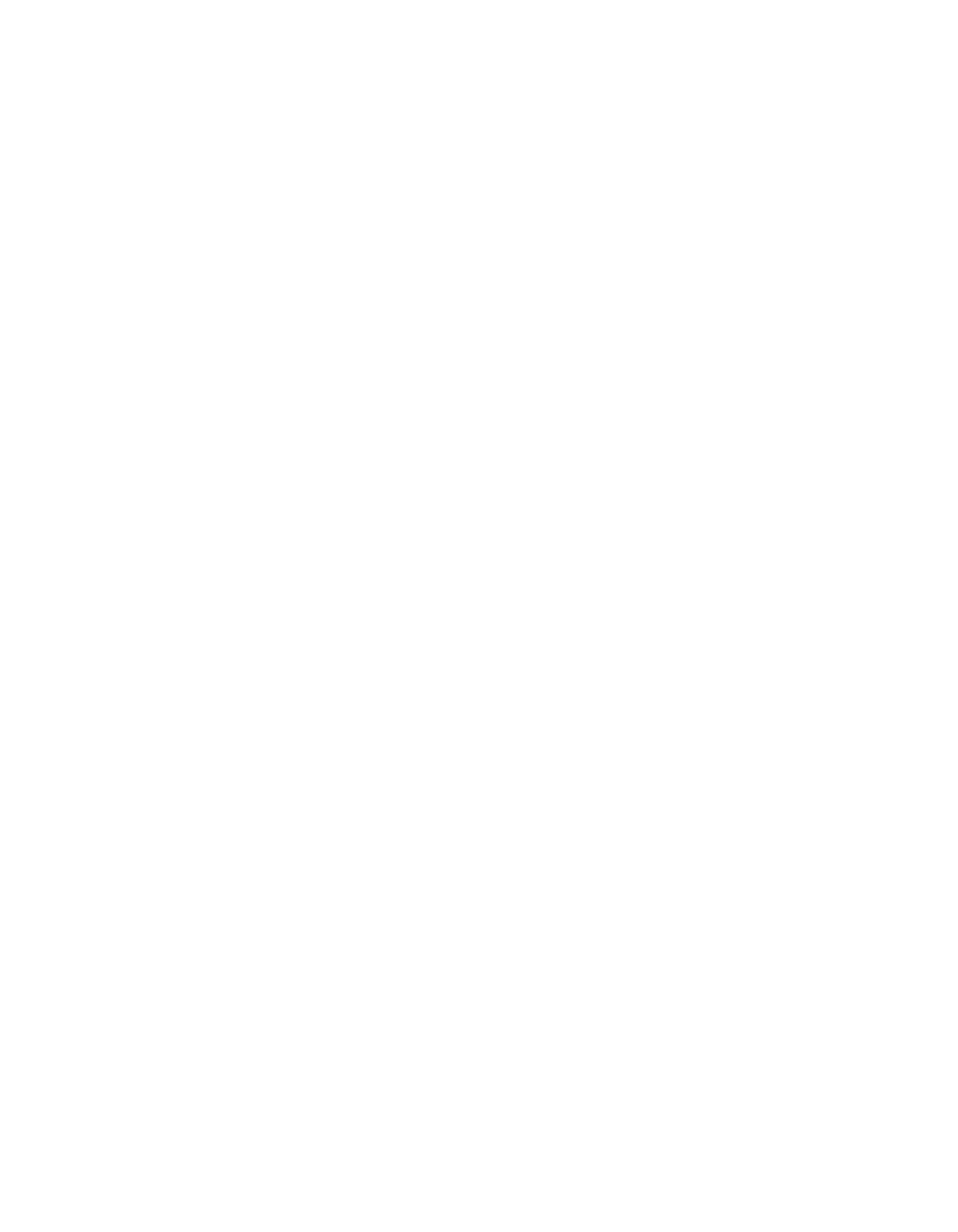
Он жизнь прожил,
как песню спел
как песню спел
Читатели продолжали писать ему даже тогда, когда почтальоны перестали носить письма мешками. Когда газеты перестали быть истиной в последней инстанции. Когда конверт стал стоить дороже буханки хлеба. Ему продолжают писать.
Он трагически погиб в апреле 1997-го на безвестном полустанке в Тверской области. Погиб при странных обстоятельствах с командировочным удостоверением "Комсомольской правды" в кармане. Ему было сорок три. На его рабочем столе остались письма, которые Валентин не успеп отправить. Он отвечал читателям. Подробно, искренне. С размышлениями о жизни, литературе политике. У него была старомодная привычка письмами, открытками поздравлять друзей с праздниками, вести дневник. Сегодня трудно поверить, что эти дневниковые записи, удивляющие своей художественной законченностью, сделан без черновиков, "для себя", без претензий на публикацию.
Слева: страница из блокнота Валентина Каркавцева
Он трагически погиб в апреле 1997-го на безвестном полустанке в Тверской области. Погиб при странных обстоятельствах с командировочным удостоверением "Комсомольской правды" в кармане. Ему было сорок три. На его рабочем столе остались письма, которые Валентин не успеп отправить. Он отвечал читателям. Подробно, искренне. С размышлениями о жизни, литературе политике. У него была старомодная привычка письмами, открытками поздравлять друзей с праздниками, вести дневник. Сегодня трудно поверить, что эти дневниковые записи, удивляющие своей художественной законченностью, сделан без черновиков, "для себя", без претензий на публикацию.
Слева: страница из блокнота Валентина Каркавцева
Прошло время любить и ненавидеть.
Пора пахать и сеять.
"Вспомним: это была прекраснодушная и наивная эпоха. Тогда многим казалось, что вот если там, наверху, лишь только повернут рычажок в нужную сторону, и через полгода-год придет какая-то совсем другая жизнь - с тучными нивами, полными прилавками, добрыми начальниками. Наверху услышали, но сколько ни крутили рычажок, всё получалось не то - рэкет, коррупция, инфляция, безработица..."
Валентин Каркавцев
12 января 1994 года
Пора пахать и сеять.
"Вспомним: это была прекраснодушная и наивная эпоха. Тогда многим казалось, что вот если там, наверху, лишь только повернут рычажок в нужную сторону, и через полгода-год придет какая-то совсем другая жизнь - с тучными нивами, полными прилавками, добрыми начальниками. Наверху услышали, но сколько ни крутили рычажок, всё получалось не то - рэкет, коррупция, инфляция, безработица..."
Валентин Каркавцев
12 января 1994 года
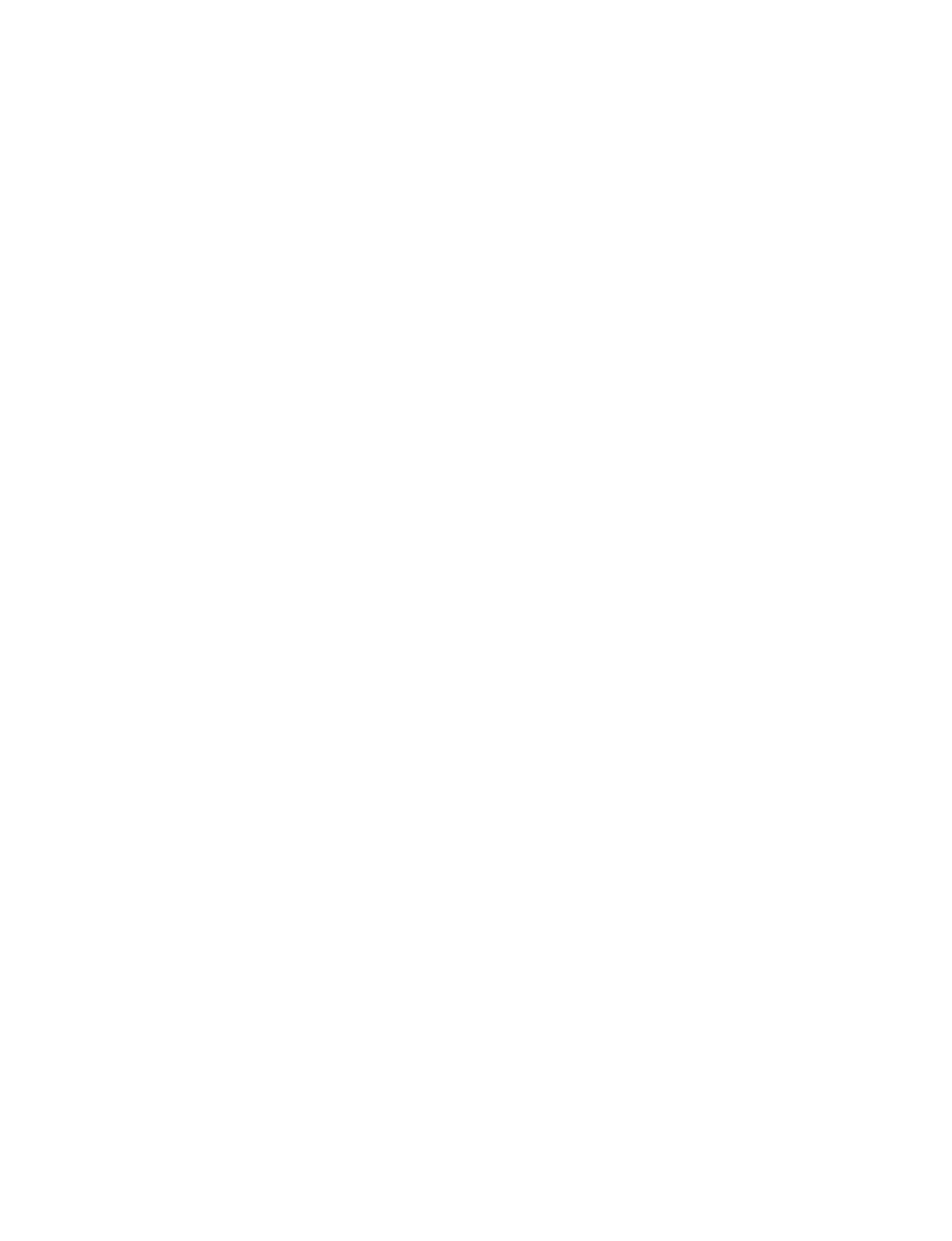
Страница из блокнота Валентина Каркавцева
Studio9marta. Кадр из фильма. Валентин Каркавцев
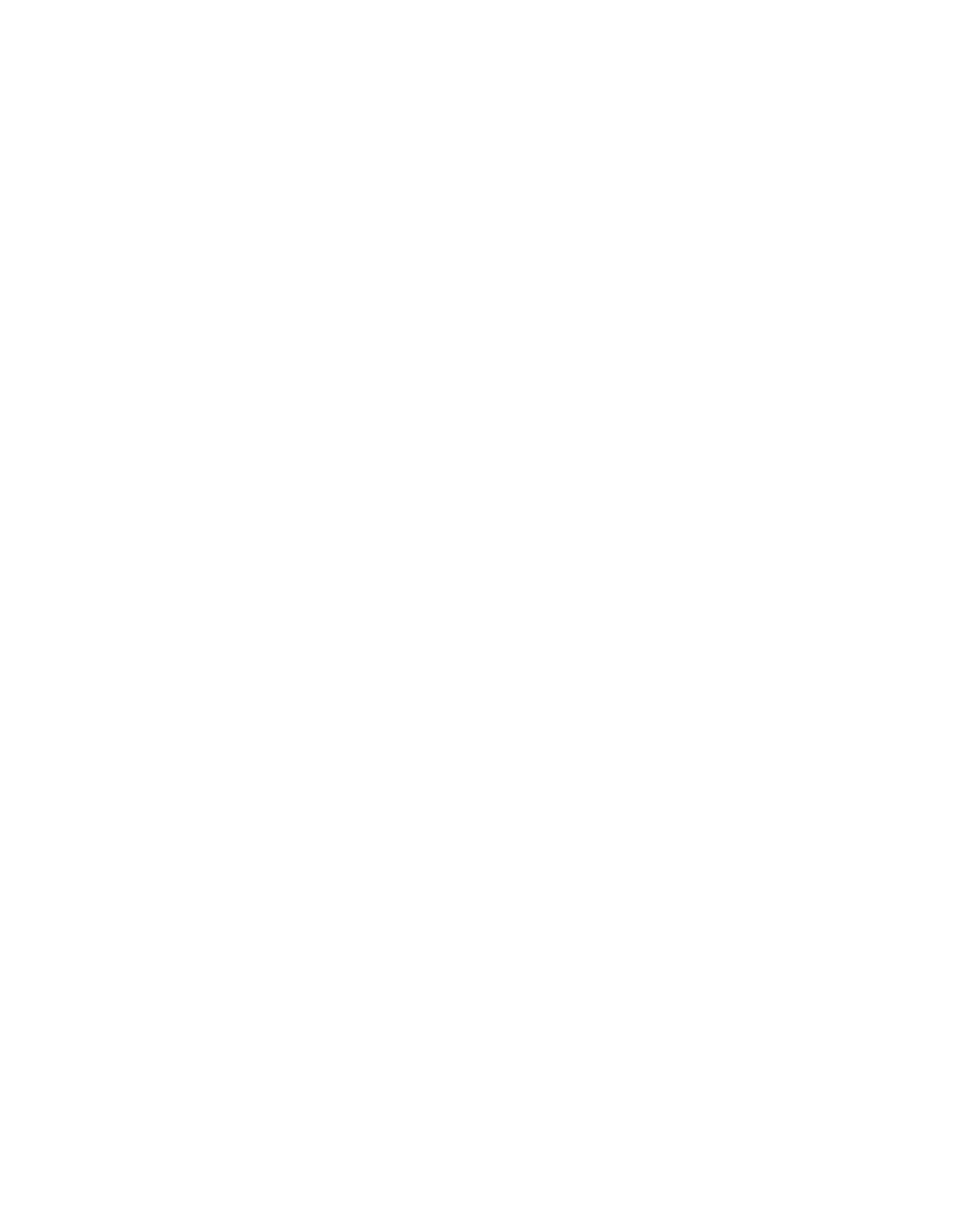
"Мне поставят
памятник на селе,
Буду я и каменный
навеселе..."
памятник на селе,
Буду я и каменный
навеселе..."
Свою первую книгу Валентин только вынашивал. и собирался посвятить её николаю Рубцову. По крупицам восстанавливал биографию поэта, ездил по рубцовским местам, разыскивал его детдомовских одногодков, переписывался с теми. кого в разные годы сводила с Рубцовым судьба.
Слева: страница из блокнота Валентина Каркавцева
Слева: страница из блокнота Валентина Каркавцева
Фильм "Наивная эпоха (дневники современника)" .
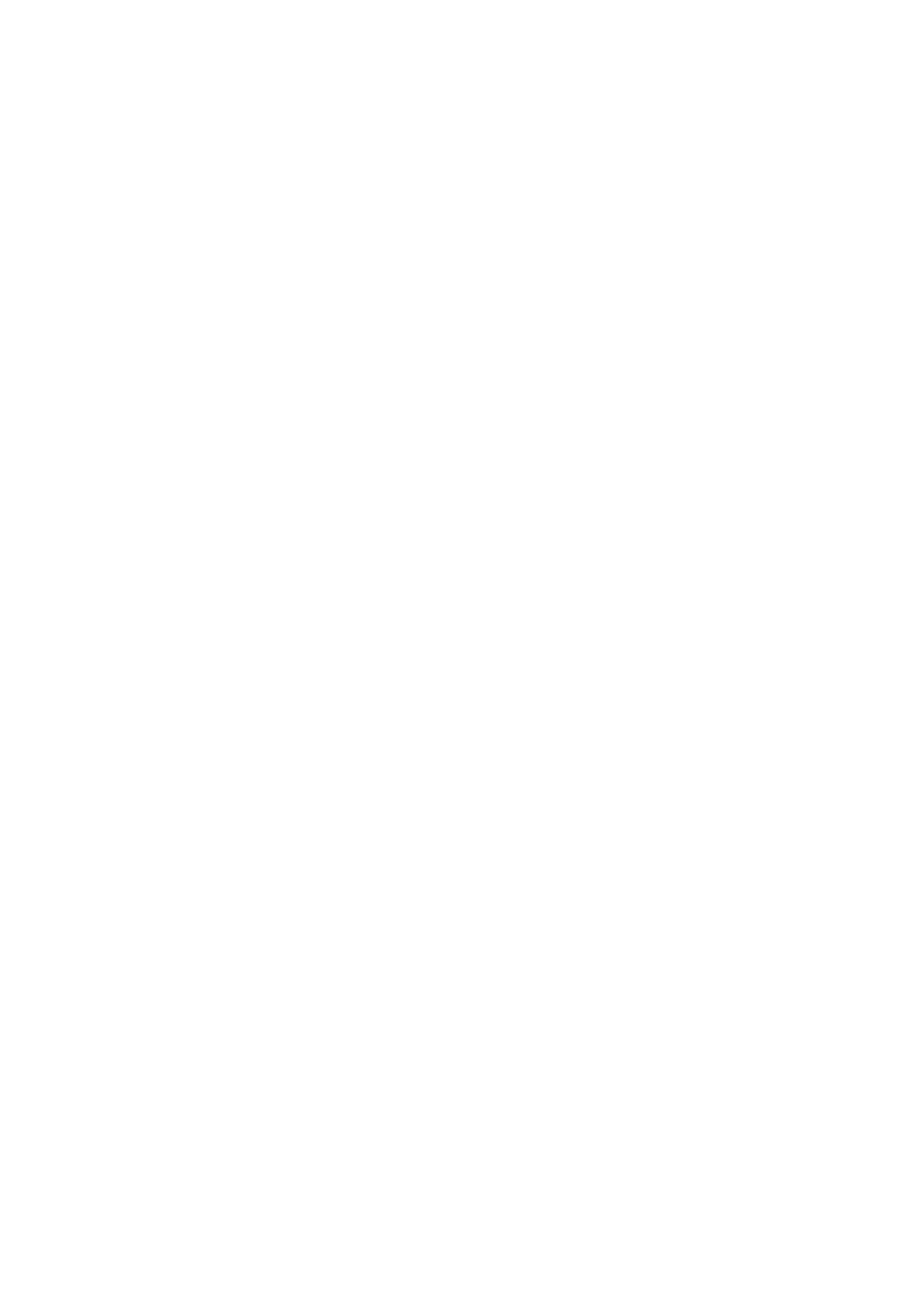
Страница из дневника Валентина Каркавцева
Я помню: это было, как ожог - неожиданное осознание того, что с Рубцовым мы ходили по одним улицам и могли даже встретиться. Тот короткий миг на излете его нескладной жизни - несколько дней в октябре семидесятого, когда он в последний раз оказался в Архангельске. Я лихорадочно роюсь в подшивках газет того времени, ищу очевидцев, торопливо записываю их рассказы и пытаюсь воскресить в памяти: что это было для меня - далекая студенческая осень? Десант на картошку, друзья-подружки, лекции по сопромату. И еще - промозглые городские вечера, старая Поморская, духа которой теперь уж нет, черный куб гостиницы - мимо неё бегали в булочную и в киношку. Гостиница! Он жил здесь, он выходил из неё в те же самые напитанные холодным дождем вечера и может быть...
Нет, не может. До Рубцова ли было тогда нам, семнадцатилетним! Да и не только нам - в ту осень он уже погибал в одиночку среди чужих людей. И вряд ли что могло остановить его: стой, там погибель твоя, Коля! Всё уже было сказано - и ему, и им.
Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки,
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки.
Я заболел им через пятнадцать лет после той осени, в восемьдесят пятом. Однажды приснилось: мы встретились в октябре семидесятого. Это был сон-наваждение: десятки раз повторялась наша встреча, но тщетны были мои неумелые попытки отговорить его, предостеречь, спасти. Я просыпался с глубокой печалью в сердце. Тогда и явился интерес к этой изломанной жизни,
Нет, не может. До Рубцова ли было тогда нам, семнадцатилетним! Да и не только нам - в ту осень он уже погибал в одиночку среди чужих людей. И вряд ли что могло остановить его: стой, там погибель твоя, Коля! Всё уже было сказано - и ему, и им.
Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки,
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки.
Я заболел им через пятнадцать лет после той осени, в восемьдесят пятом. Однажды приснилось: мы встретились в октябре семидесятого. Это был сон-наваждение: десятки раз повторялась наша встреча, но тщетны были мои неумелые попытки отговорить его, предостеречь, спасти. Я просыпался с глубокой печалью в сердце. Тогда и явился интерес к этой изломанной жизни,